Высказывания бизнесменов, которые свидетельствуют о том, что дела в российской экономике идут совсем неважно.
Бизнес обычно не склонен к публичной панике, предприниматели предпочитают делать осторожные прогнозы даже тогда, когда поводов для оптимизма немного. Но иногда некоторые из них проговариваются: прямо или косвенно дают понять, что кризис все-таки близок или даже уже нас настиг. Симптоматичные высказывания бизнесменов о российской экономике, сделанные в последнее время.

основатель и владелец группы компаний «Связной»
Государство часто сегодня делает какие-то волевые резкие движения, не вполне задумываясь о последствиях для бизнеса и оперируя критерием стабильности государственной части экономики. Все это в конечном итоге приведет к увеличению стоимости инвестиций, потому что инвесторы будут закладывать риски изменения правил игры. («Ведомости»)
Давид Якобашвили
бизнесмен
Экономика может пострадать, если, не дай бог, будут введены санкции против российских компаний и другие ограничения: визы, выезд, въезд, общение с банками. Знаете, столько приходится решать проблем, сталкиваясь с иностранными банками? А сейчас может быть еще хуже. Ситуация вокруг Украины может привести к падению акций российских компаний, если за этим последуют определенные действия западных регуляторов. (РБК)
Михаил Прохоров
предприниматель
Хотел бы обратить внимание на экономическую проблему. Да простят меня сторонники за цитирование Ленина, политика – концентрированное выражение экономики. Экономика Украины сейчас балансирует на грани катастрофы. И, что важно, ни у России, ни у ЕС, ни у США не хватит ресурсов, чтобы решить проблему, которая уже сейчас измеряется $130 млрд. Я сейчас пытаюсь просчитать модель, которая сможет вывести ситуацию из критической, ведь экономический кризис Украины аукнется всем – и России, и ЕС, и, как бы ни были в себе уверены Штаты, кризис коснется и их.
Поэтому решать проблему придется совместно. Чем дольше мы тянем с решением, тем цена выхода будет выше. Причем я говорю не о финансовой цене, а о человеческой – за падением экономики упадет уровень жизни людей, допустить гуманитарную катастрофу мировое сообщество не вправе. (Блог М. Прохорова)
Михаил Задорнов
президент банка «ВТБ 24»
Мы видим, что многие предприятия начинают сокращать численность сотрудников. У «ВТБ 24» порядка 45 тысяч предприятий на зарплатных проектах – от малого бизнеса до крупнейших компаний с персоналом более 1 млн человек, и подобные тенденции мы можем четко отслеживать. «Базовый элемент» закрыл пять наименее рентабельных предприятий алюминиевой отрасли. РЖД объявили о неполной рабочей неделе для части работников. («Ведомости»)
Алексей Голубович
управляющий директор «Арбат Капитала»
В зависимости от того, как США будут обосновывать целесообразность и необходимость каких-то действий против России в ООН и пойдут ли они на какие-то односторонние меры (это может занять несколько месяцев), в целом для российских компаний за границей будет создан максимально неблагоприятный режим: будут заморожены все готовившиеся торговые соглашения, будет сложнее приобретать активы и технологии за рубежом. Но в первую очередь это отразится на стоимости заимствований.
Само по себе это не должно немедленно значительно повлиять на курс рубля, потому что его можно поддерживать и компенсировать недостаток валюты в обменниках. Но я думаю, что будет отток вкладов, а через некоторое время – введение в России более жесткого валютного регулирования. Кроме того, население – в зависимости от картинки в телевизоре – может начать панически скупать валюту, и поэтому курс рубля к доллару в ближайшие несколько недель может просесть еще на 5–6%. (РБК)
Евгений Чичваркин
предприниматель
Российский Пенсионный фонд покрывается на два-три процента. Государство может платить пенсии только при высокой цене на нефть. В 2008–2009 годах нефть очень сильно упала – со ста сорока до тридцати пяти долларов за баррель. Тогда за несколько месяцев мы проели треть Стабфонда. Мы неслись в бетонную стену, и если бы нефть не подскочила до ста двенадцати, мы бы врезались в нее на полном ходу.
Есть циклы, от них никуда не деться. Может пройти резко, а может гладко, но так или иначе каждые десять лет случается переоценка всех мировых активов. В следующий раз правительство уже не справится. (GQ)
Святослав Бирюлин
директор компании Sapiens Consulting
Еще недавно эти собственники занимали выжидательную позицию, все надеялись, что кризис закончится, экономика заколосится и по рынку опять побегут жадные до активов инвесторы. Но нынешние события заставят их поверить словам самых мрачных скептиков, утверждающих, что в этой стране уже никогда ничего не поднимется. И они могут начать «высушивать» свои предприятия, выдаивая из них оборотные средства до капли, выжимая из оборудования последнее, введя жесткий мораторий на любые инвестиции и обновления парка. Чтобы потом, когда обескровленный бизнес сдохнет, просто бросить его, собрать все и уехать. Раз нельзя продать – надо вернуть все, что возможно, зафиксировать убытки и отбыть. (Slon)
Михаил Алексеев
председатель правления «ЮниКредит Банка»
Замедление экономики – это удар по росту доходов и прибыли, что замедляет и прирост сбережений. Компенсировать такие последствия должен регулятор-кредитор, однако задолженность перед ним составляет уже более 4 трлн рублей. Очевидно, что бесконечно ее наращивать нельзя. Но и отказ от подобной поддержки чреват негативными последствиями. (Forbes)

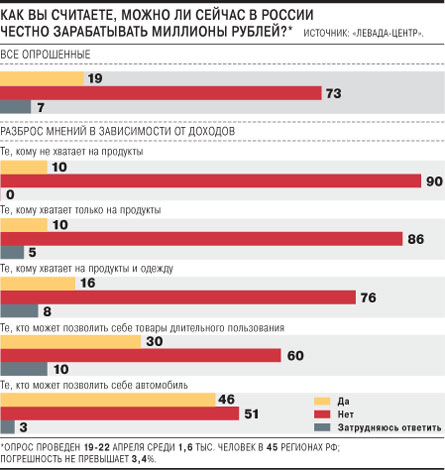
 В апреле министр экономического развития Андрей Белоусов снизил прогноз экономического роста России на 2013 год в полтора раза и объявив о возможной рецессии (спаде) во втором полугодии. В российском руководстве начались активные обсуждения мер экономического стимулирования, в том числе и тех, которые последние годы были под «табу» – курсовой политики ЦБР, использования средств бюджетных фондов и т.п.
В апреле министр экономического развития Андрей Белоусов снизил прогноз экономического роста России на 2013 год в полтора раза и объявив о возможной рецессии (спаде) во втором полугодии. В российском руководстве начались активные обсуждения мер экономического стимулирования, в том числе и тех, которые последние годы были под «табу» – курсовой политики ЦБР, использования средств бюджетных фондов и т.п.  Более трех десятилетий неолиберальная экономическая политика объявлялась единственно-возможной. У нее, как полагают ее адепты, нет, и не может быть альтернативы. С конца 1970-х годов рецепты монетарного регулирования, приватизации и сокращения социальных гарантий провозглашались исключительным путем развития. Шаг за шагом правительства неоконсерваторов проводили курс, призванный расширить возможности «свободного рынка» и сократить влияние на него со стороны общества. Формулы «рынок решает все сам» и «рынок создает будущее», казалось, должны была привести нас к лучшему будущему. Но каково это будущее на самом деле?
Более трех десятилетий неолиберальная экономическая политика объявлялась единственно-возможной. У нее, как полагают ее адепты, нет, и не может быть альтернативы. С конца 1970-х годов рецепты монетарного регулирования, приватизации и сокращения социальных гарантий провозглашались исключительным путем развития. Шаг за шагом правительства неоконсерваторов проводили курс, призванный расширить возможности «свободного рынка» и сократить влияние на него со стороны общества. Формулы «рынок решает все сам» и «рынок создает будущее», казалось, должны была привести нас к лучшему будущему. Но каково это будущее на самом деле?  Согласно данным Управления по делам малых бизнесов, количество частных предпринимателей в Соединенных Штатах уменьшается пятый год подряд. В среднем, около 570 тысяч малых бизнесов открываются и около 600 тысяч закрываются каждые двенадцать месяцев.
Согласно данным Управления по делам малых бизнесов, количество частных предпринимателей в Соединенных Штатах уменьшается пятый год подряд. В среднем, около 570 тысяч малых бизнесов открываются и около 600 тысяч закрываются каждые двенадцать месяцев.  В мировой экономике грядет нечто великое, событие, которое по своим масштабом окажет серьезнейший эффект на всю глобальную финансовую систему.
В мировой экономике грядет нечто великое, событие, которое по своим масштабом окажет серьезнейший эффект на всю глобальную финансовую систему.  Борьба великих держав в ХХ веке была соперничеством советского коммунизма и рыночного корпоративизма за господство над мировыми ресурсами. В Америке считается само собой разумеющимся, что советский коммунизм проиграл (хотя более капиталистический китайский вариант поживает весьма неплохо). Таким образом, превосходство неолиберальной экономики, олицетворением которой стали великие многонациональные корпорации, подтверждено и провозглашено навечно.
Борьба великих держав в ХХ веке была соперничеством советского коммунизма и рыночного корпоративизма за господство над мировыми ресурсами. В Америке считается само собой разумеющимся, что советский коммунизм проиграл (хотя более капиталистический китайский вариант поживает весьма неплохо). Таким образом, превосходство неолиберальной экономики, олицетворением которой стали великие многонациональные корпорации, подтверждено и провозглашено навечно.  «Парализованный» Федеральный резервный банк, доживающий «последние деньки» и оказавшийся заложником «роботизированных» торгов на «искусственно поддерживаемых» рынках, – это лишь часть печальных наблюдений, которыми делится Дэвид Стокман (David Stockman), бывший конгрессмен-республиканец и глава Административно-бюджетного управления 1981–1985 (в годы правления Рейгана).
«Парализованный» Федеральный резервный банк, доживающий «последние деньки» и оказавшийся заложником «роботизированных» торгов на «искусственно поддерживаемых» рынках, – это лишь часть печальных наблюдений, которыми делится Дэвид Стокман (David Stockman), бывший конгрессмен-республиканец и глава Административно-бюджетного управления 1981–1985 (в годы правления Рейгана).  В 2009 году госдолг Греции составлял 127,1% от ее ВВП. Через год он поднялся до 142,8%; в 2012-м, по прогнозам, составит 170%, а в 2013 году достигнет 186% ВВП. А ВВП – это сумма всех денег, переложенных из кармана в карман по всем сделкам.
В 2009 году госдолг Греции составлял 127,1% от ее ВВП. Через год он поднялся до 142,8%; в 2012-м, по прогнозам, составит 170%, а в 2013 году достигнет 186% ВВП. А ВВП – это сумма всех денег, переложенных из кармана в карман по всем сделкам.  Ежегодное международное социологическое исследование
Ежегодное международное социологическое исследование  Вот уже более трех недель глашатай умного капитализма, британская газета The Financial Times проводит смотр состояния рыночной экономики. Обозреватели, экономисты, политическое деятели и предприниматели со всего мира ведут споры на ее страницах. Озаглавлен этот длинный цикл статей был следующим образом: «Капитализм в кризисе».
Вот уже более трех недель глашатай умного капитализма, британская газета The Financial Times проводит смотр состояния рыночной экономики. Обозреватели, экономисты, политическое деятели и предприниматели со всего мира ведут споры на ее страницах. Озаглавлен этот длинный цикл статей был следующим образом: «Капитализм в кризисе». Профессор Эяль Винтер, глава Центра исследований рационализма в Еврейском университете
Профессор Эяль Винтер, глава Центра исследований рационализма в Еврейском университете